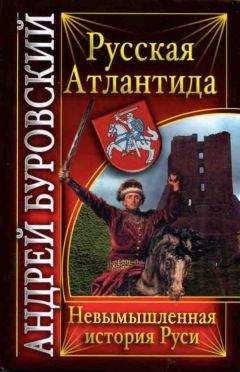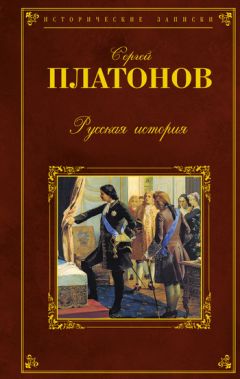Г. П. Федотов - Русская религиозность
Но нельзя отрицать, что некоторые высокообразованные авторы пользовались греческими книгами. Нам известен по крайней мере один случай из XIV столетия. Преподобный Стефан, по преданию, выбрал местом пострига монастырь в Ростове, поскольку там имелась греческая библиотека. Стефан [15] был одним из самых примечательных людей своего времени. Ранее уже упоминался круг киевских переводчиков Ярослава. Некоторые русские переводы могли быть выполнены в монастырях Афона. Эта гипотеза подтверждается тем, что в отдельных переводах встречаются болгарские и русские выражения. Филологические исследования славянской Библии привели к заключению, что в различные времена древний славянский текст подвергался исправлению на Руси русскими людьми с двумя противоположными целями: иногда пытались приблизить священный текст к разговорному языку, а в некоторых случаях — достигнуть более точного соответствия греческому оригиналу. Один из этих переводов, сохранившийся до наших дней в списке XIV столетия, по традиции приписывается митрополиту Алексию, русскому по происхождению. Алексий и Стефан были современниками и единственными русскими людьми средневековья, владевшими, согласно достоверным свидетельствам источников, греческим языком. Они, конечно же, не были одиноки. Но как бы много русских людей ни владело греческим, несомненен факт, что никто из писателей Древней Руси, даже если он и знал греческий, никогда не выказывал этого знания. Никто из них не попытался выйти из круга или превысить уровень заимствованной греческой богословской традиции, доступной в славянских переводах.
Что касается духовности, то прямое византийское влияние распространялось из монастырей греческой земли, которые для русских во все времена оставались школой аскетической жизни. Студийский и Ксилургийский монастыри, а также Свято–Пантелеймоновский монастырь на Афоне служили маяками для монашества. Как именно русское монашество шло по стопам греческих предшественников, мы рассмотрим ниже.
Книжники и святые
III. Русские византинисты
Три фигуры выделяются на фоне русской культуры домонгольского периода: Климент Смолятич, Иларион Киевский и Кирилл Туровский. Все трое были епископами, а двое и митрополитами — единственными русскими митрополитами Киева; летописцы говорят о них как о самых ученых людях своего времени. Именно в творчестве этих епископов следует искать наиболее яркое проявление русского византинизма.
Климент Смолятич
В 1147 г., когда русский игумен Климент, родом из Смоленска, был поставлен Киевским князем митрополитом, летописец замечает: «Такого философа не бывало на русской земле». Каждый, знакомый с древнерусской литературой, знает, что «философом» называли всякого высокообразованного или даже просто образованного человека, совсем не обязательно имеющего отношение к философии как науке. К сожалению, мы располагаем только одним фрагментарным трудом Климента — посланием к пресвитеру Фоме. Рукопись, содержащая позднейшие вставки, сохранилась плохо и порядок страниц совершенно нарушен. Тем не менее, этот отрывок представляет собой ярчайшее проявление русского византинизма. Некоторые исследователи русской литературы утверждают даже, что находят в нем доказательства того, что Климент читал Гомера, Платона и Аристотеля, — разумеется, по–гречески, поскольку славянских переводов этих авторов тогда не существовало. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что предполагаемое знакомство с греческой классикой приписывается Клименту его противниками, очевидно, как упрек в языческом секуляризме. Священник Фома обвиняет Климента в толковании Священного Писания со ссылками на Гомера, Платона и т. д. Предметом спора между русскими священнослужителями был вопрос о правомерности использования аллегорий в библейской экзегетике, причем смоленский круг священника Фомы и его единомышленников отрицал ее, а Климент — отстаивал. Вместо теоретического обоснования аллегорического метода Климент в своем послании на конкретных примерах доказывает его необходимость. Из Ветхого Завета он выбирает множество отрывков, которые в их буквальном значении кажутся лишенными религиозного содержания: «Что мне до хромоты Иакова? Какая печаль мне, что Иаков хром?» — вопрошает Климент. Он дает собственные толкования, призванные убедить противников в правомерности аллегорического прочтения. Он не цитирует светских писателей и не предлагает логического или чисто рационального подхода к пониманию Писания. Все его примеры взяты из святоотеческой литературы, существовавшей в славянских переводах. Он не предлагает новых идей, обогащающих или исправляющих греческую традицию. Существует много параллелей труду Климента в излюбленной русскими литературной форме коротких вопросов и ответов — антологиях богословского и экзегетического содержания. Самый факт существования двух экзегетических школ и дискуссии между ними свидетельствует, разумеется, о пробуждении теоретической мысли. Однако эта мысль еще незрела: как у смоленской школы с ее довольно‑таки ретроградной подозрительностью в отношении эллинизма, так и у киевской с ее «высоким» экзегезисом, являющимся славянским переложением напыщенных греческих аллегорий.
Культурная вершина труда Климента заключается в некоторых разъяснениях неясных мест из проповедей Григория Назианзина. Из Климента, или точнее из его греческих источников, известных в переводах, русский читатель мог узнать о «днях Алкиона», грифонах Александра, о саламандре и некоторых других географических, исторических и мифологических диковинах, которые, однако, были для него совершенно бесполезны в силу полного незнания угасшей культуры классической Греции. Эти экзотические частности могли только Щекотать тщеславие немногих литературных снобов.
Намного серьезнее и религиозно значимее библейская экзегетика Климента. Следуя за Феодоритом и Никитой Гераклейским [16] он воспаряет в аллегориях. Любая подробность Ветхого Завета наводит его на мысль о параллелях из Нового Завета или дает повод к морализированию. Лишь в редких случаях обнаруженный параллелизм основан на внутреннем сродстве понятий. В противном случае экзегетическое толкование можно было бы назвать символическим. В символическом истолковании связь между двумя явлениями, или явлением и образом, столь тесна и естественна, что ее нельзя произвольно нарушить, если она однажды постигнута. Исход из Египта и вершина его — переход Чермного моря — навсегда останутся символом избавления и спасения, а следовательно, христианского искупления и праздника Пасхи. Адам и Христос, Ноев ковчег и Церковь, обрезание и крещение, древо жизни и крест Иисуса для христиански мыслящего человека имеют сущностную связь. Но Мелхиседек и Христос, медный змий и крест связаны только аллегорически, надуманно. Разумеется, граница между символом и аллегорией не является непреодолимой. Аллегория может дорасти до символа в силу традиции. С другой стороны, христианская символика может показаться просто аллегоризмом стороннему наблюдателю, незнакомому с христианским преданием. Средневековая экзегетика без меры пользовавшаяся аллегорией, очевидно, не сознавала различия между ней и символом в собственном смысле. Господствовало представление, что в Откровении ничто не может принадлежать царству случайности и каждая подробность Библии должна иметь существенное, онтологическое значение. Для нас это обстоятельство лишает средневековую экзегетическую литературу религиозной ценности. Священник Фома и его единомышленники вызывают сочувствие своим отказом принимать всерьез детскую игру со Священной Книгой.
В подтверждение законности своего ученого метода Климент приводит десятки библейских текстов, лишенных какойлибо видимой связи. Пояснения Климента порой возвышенны, порой смешны, в зависимости от того, каким греческим источником он воспользовался.
«Премудрость созда себе храм, и утверди седмь столпов» (Притч. 9, 1), «Премудрость есть Божество, — говорит Климент, — а храм — человечество, аки во храм бо вселися в плоть. Седмь столпов сиречь седмь соборов святых и богоносных отец наших». Животные, жующие жвачку, должны напоминать нам о необходимости денно и нощно помышлять о законе Божьем. «Сыновья Иакова сиречь добродетели, скот его — греховные помыслы». «Что есть самарянка мне? — вопрошает Климент, погруженный в проблему личного спасения, — Свята ли она, имея пять или шесть мужей? Но епископ Гераклеи (Никита) глаголет мне: Самарянка есть душа, пять мужей ее — пять чувств, а шестой муж есть разумение…»
Здесь Климент дает ключ к одному из его источников. Он в своих толкованиях, несомненно, не претендует на оригинальность, которая показалась бы ему ересью. Таким образом, все его экзегетические примеры знакомы хорошо начитанному в святоотеческой литературе читателю. Порой, когда эрудиция изменяет ему, он оставляет высоты аллегоричности и попросту пересказывает целые главы из Библии. Так толкует он падение Адама и, как ни странно, главу 38 Книги Бытия, где буквально пересказывает историю вдовства Фамари и инцеста. В последнем случае, однако, немедленно следует толкование, и к тому же весьма многословное. Этот библейский эпизод имеет особое значение для Климента. Объясняется это тем, что инцест Фамари со свекром Иудой дает начало роду Давида, а следовательно, и родословной Иисуса Христа. Таким образом, все домостроительство искупления связывается с инцестом, и Климент прикладывает немалые усилия, чтобы стереть подозрение в греховности с памяти прародителей Иисуса. Не из плотского вожделения, а во имя материнства прибегает Фамарь к обману, притворясь блудницей.